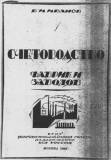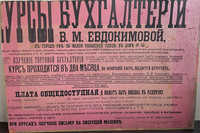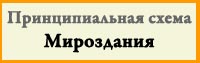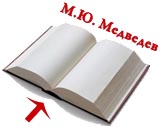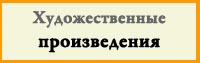ИСТОРИЯ РУССКОЙ БУХГАЛТЕРИИ
1877 год
Железнодорожные злоупотребления
В 1877 г. при Государственном
Контроле была учреждена Комиссия (под председательством Тертия Ивановича
Филиппова) из чиновников Государственного Контроля, Министерства финансов и
Министерства путей сообщения с целью установить сметные правила для железнодорожных
обществ, выработать порядок их счетоводства и отчетности и порядок поверки
железнодорожных операций.


Т.И. Филиппов
Проект, после рассмотрения в
Министерстве финансов и Министерстве путей сообщения, был передан на
рассмотрение графа Баранова, председателя Комиссии для исследования состояния
железных дорог в Империи и изыскания мер к его улучшению. Однако могло ли
счетоводство, тем более придуманное министерскими чиновниками, ограничить
злоупотребления, издавна процветавшие при строительстве российских железных
дорог?
Строители железных дорог нагло
и в огромных масштабах обогащались за счет государственных подрядов – это
отмечается практически всеми авторами, занимавшимися данной проблемой.
Вот что писал по этому, а
именно по поводу Восточно-Китайской
железной дороги,
известный экономист И.Х. Озеров:
«Постройка велась без всякой отчетности. Так, г. Ч. пишет в своем
докладе государственному контролеру при исследовании этой дороги: «Я участвовал
в работах комиссии под председательством Ходоровского, исследование отчетности
вскрыло следующее: многие расписки написаны вовсе не по-китайски, а
представляют ряд фантастических знаков. Одно и то же лицо оказывалось то
грамотным, то неграмотным. Расписки разных китайцев на табелях сделаны нередко
одним и тем же лицом». Иногда на документах проставляется цифра и отметка:
«Это, вероятно, расход по поездке». Какой поездки, куда — неизвестно. Или:
«Это расход, о котором я ничего не знаю, а г. Ледебор знает все». Или документ:
«300 долларов». Вот и все. Куда употреблены 300 долларов, на что они — неизвестно.
Иногда сверх контрактных цен уплачивались крупные суммы в 25-40% за «особые
работы»; опять почему — неизвестно.
Было наряжено целое следствие по поводу инженера П. относительно
представления им подложных счетов на крупную сумму, и опрошенные китайцы
заявляли, что под счетами, где значились их подписи, они не подписывались и
денег не получали...
Печатные отчеты, которые Министерство финансов пересылало в контроль,
являлись лишь денежными отчетами. Там иногда просто значилось так: в отчете за 1902 г.: «Переведено
главному инженеру 41 м.
р.», а как израсходованы эти средства, на что — неизвестно: отчета нет...
По отчетами Министерства финансов нельзя составить представления,
насколько хозяйственно велась постройка.
При исследовании отчетности некоторые ссылались на пожары, на
боксерское восстание, в котором погибла отчетность. Так, заготовки леса на 5
млн. руб. производились неким Д., который, не будучи в состоянии оправдать
документами произведенные им расходы, заявил, что все книги со счетами сгорели
во время пожара в Харбине, а в «Харбинском Вестнике» после пожара было им самим
печатно заявлено, что во время пожара уничтожено было всего несколько судебных
дел...
Постройка Дальнего также в значительной степени не оправдана
документами, а теперь отчеты захвачены японцами и пока не выданы обратно. Одним
словом, все счетное дело было найдено комиссией Ходоровского в полном
беспорядке. Бухгалтерские книги оказались непригодными. Комиссия т. с. Романова
в 1901 г.
также выяснила несостоятельность отчетности. Но и в той отчетности, которая
представлялась, трудно было разобраться. Она запутывает тем, что счет
производился на самые разнообразные монеты — ямбовое серебро, таэли, ланы,
доллары мексиканские, дяо гиринские, цицикарские, мукденские и т.д. У расписок
зачастую нет дат.
Постройка дороги велась на 90% всех расходов из авансовых сумм.
Но неожиданно 21 июня 1905 года в письме на имя графа Сольского В.Н.
Коковцов заявил, что отчет по постройке Восточно-Китайской дороги выполнен
вполне удовлетворительно, и верста дороги обошлась в 101.959 руб., а
Кайдаловской ветви, ближайшей из сибирских, — в 89.257 руб. Но этот отчет,
очевидно, составляет тайну и для контроля, и как он выполнен — не известно.
Громадные расходы по сооружению Восточно-Китайской дороги проходили без
ведома контроля, и это в то время, когда контроль производит начеты в 20-30
коп. на какого-нибудь мастерового за излишне полученную им плату. Колоссальные
затраты за счет русского казначейства по Восточно-Китайской дороге оставались
вне его ведения».


Мост через реку Сяо-Сунь Фуй Сибирской железной дороги
Читаем по поводу другого железнодорожного строительства:
«Здесь, по его мнению, сказалось то, как строилась Сибирская железная
дорога. При постройке последней располагали громадными средствами, этих средств
не жалели; назначались громадные оклады; так, если начальник работ в
Европейской России получал 10-15 тыс., то в Сибири — 25 и 30 тыс. Также в
преувеличенном виде выдавались пособия и другие оклады; содержание строительной
администрации в Европейской России на версту составляло 2-3 тыс., а для Сибири
— 3-10 тыс., на Кайдаловской ветви — 8 тыс., на Кругобайкальской — 10.945 руб.
Эти нравы, очевидно, перешли потом и в Европейскую Россию, и мы видим
иногда странные явления: оценочная комиссия по отчуждению земель для нужд
строящейся казенной железной дороги назначает цену в большем размере, чем
требовали сами землевладельцы: вместо 200 руб. за десятину — 1.200 руб.
При постройке Сибирской дороги права начальников работ были расширены в
виду отдаленности от центра, сдача с торгов мало применялась, а приглашения
рассылались лишь нескольким подрядчикам, и появился тип крупных подрядчиков.
Иногда работы производились без письменных договоров, по словесным соглашениям.
Начальники работ сами стали изменять условия договора, сроки, единичные цены;
Развилась система приплат к договорным ценам за «особые работы» или за работы,
«произведенные на особых условиях». Работы стали производиться хозяйственным
способом по высоким ценам. Вот эти-то приемы и навыки и вся атмосфера перешли
из бывшего управления по сооружению Сибирской дороги в управление по сооружению
железных дорог, созданное по закону 1899 г.
Новому управлению (новое только по названию, но не по составу) трудно
было отрешиться от правил и порядков, выработанных на Сибирской железной
дороге, и войти в рамки той спокойной закономерной деятельности, которая была
присуща бывшему временному правлению казенных железных дорог, когда оно строило
дороги по 40 тыс. руб. с версты. Деятельность управления по сооружению железных
дорог не нормирована, и на практике обнаруживается стремление обходить
принципиальные вопросы и разрешать возникающие сомнения и недоразумения каждый
раз особо, применительно к данному случаю».
Читаем далее:
«Как известно, крупные перерасходы имели место по постройке
Московско-Архангельской железной дороги.
Подрядчики, по-видимому, были только подставными лицами, а работы выполнялись
служащими в обществе инженерами, и эти работы проводились по книгам не по
действительным расходам, а по ценам более высоким, установленным с подряда,
притом работы совершались, главным образом, из авансов.
«Все на себя примут и всякие документы подпишут», — говорили про этих
подрядчиков; напр., работы по засыпке болот для подрядчика оценивались по
полной глубине болота, а действительные расходы у инженеров — по половинной.
Главный инженер не церемонился с ними и отбирал работы, когда хотел.
Подрядчики подписывали решительно все, расписывались в получении авансов,
которых им не давали; по работам, ими не выполнявшимся, писали, что расчетом и
обмером довольны и претензий от них не будет и т.д.; так, подрядчику М.
уплачивались значительно большие суммы, чем следовало бы за фактически
произведенные работы. То же самое и подрядчику Р. Эти переплаты исчисляются
миллионами рублей в год».
Продолжать не имеет смысла.
Отметим лишь, что недаром – ох, не даром, с прописной буквы! – железнодорожное
ведомство всегда выступало одним из самых непримиримых противников
Государственного Контроля.
Однако, пеняя железнодорожное
ведомство, приведем и иное мнение относительно его взаимоотношений в
Государственным Контролем. Данное мнение выражено уже в цитировавшейся нами книге
«Государственный контроль и государственные железные дороги» некоего Педро, под
маской которого скрылся Яков Федорович Браве, известный также как Е. Варб.
«Нужно напомнить, - пишет защитник железнодорожного начальства, - что
государственный контроль, значение которого было у нас очень поднято
Татариновым, представляет, как известно, ведомство нигде в Западной Европе не
существующее в виде отдельного министерства. Конечно, Европа нам не указ, но
приведенное обстоятельство все-таки надо помнить. Татаринов следующим образом
объяснил значение государственного контроля: «Представьте бесчисленное
множество ручейков, которые сливаются в общую цистерну; ручейки — это государственные
доходы. Цистерна только с одним контрольным отверстием, у которого стоит контролер
со счетным аппаратом, пропускающий государственные расходы в контрольное
отверстие». Это объяснение значения контроля, объяснение, сделанное самим, так
называемым, творцом контроля, нельзя забывать: оно дает программу и круг деятельности
контроля и вполне определенно указывает его цели. Контроль есть счетчик, но не
распорядитель; он не имеет непосредственного соприкосновения с публикою, но
учитывает все ведомства. Понятно, для ведения дел такого учреждения необходим
большой такт, потому что излишне придирчивым вмешательством, хотя бы находящим
оправдание в усердии к казенному интересу контроль может повредить многим
благим начинаниям и отнять у чиновников, и без того склонных к рутине и
неподвижности, последнюю энергию, охоту брать на себя инициативу и нести
ответственность. Затем, представителям контроля нужно знать хорошо дело и
обладать солидными сведениями по отношению к операциям, отчетность по которым
они ревизуют. Наконец, чины контроля не должны жертвовать существом ради формы
и замыкаться в рамки канцелярской требовательности. В заключение же нужно
сказать, что самое опасное дело для контроля это те случаи, когда, прилагая все
свое усердие к охране казенного интереса, чиновники контроля попадают в
комическая положения».


Бланки из книги по железнодорожному счетоводству
Из комических положений, в
которые попадают чиновники Государственного Контроля вследствие своей
некомпетентности, Яков Федорович приводит следующий курьезный случай.
«Не могу удержаться, - пишет он, - чтобы не сделать выписки из письма
инженера Демчинского, напечатанная в газете «Гражданин» 5 сентября 1895 г. Рассказанный
инженером Демчинским случай отлично характеризует всю деятельность контроля, а
вместе с тем и положение лиц, имеющих с ним дело.
Лет восемь назад, — рассказывает инженер Демчинский — я был приглашен
своими товарищами-инженерами составить фотографический альбом сооружений
Ржево-Вяземской железной дороги. Явился я во Ржев со всеми приборами в начала
августа и там же сочинили договор на сумму около 2000 р. Так как дорога была
еще не вполне готова, то условились мы так: теперь я фотографирую приблизительно
половину общего количества сооружений, уже оконченных, а в октябре, когда все
остальное будет готово — остальное. Далее, в договоре было сказано, что я
обязуюсь сдать все альбомы через два месяца по окончании фотографирования,
причем «зоркое око» заметило, что при такой редакции выходит договор
бессрочным, ибо я могу до скончания веков не закончить фотографирования, а
посему это око вклеило такую фразу: «сдать альбомы не позже 1 января», что,
по-видимому, вполне согласовалось с октябрьским фотографированием: за просрочку
полагался штраф посуточно. Приходить октябрь — я пишу, телеграфирую главному
инженеру, что скоро снег скроет всякие объекты для фотографирования; получаю
официальную бумагу, в которой говорится, что по распоряжению министра путей
сообщения окончание дороги отложено на весну и посему, за неимением объекта, и
мне делать нечего до весны, а тогда я получу уведомление. В конце июня я
получаю телеграмму главного инженера с приглашением приехать, а в конце июля,
т.е. через месяц, а не два, я сдал весь альбомы и получил квитанцию. Каково же
было мое изумление, когда через две недели вместо денег мне выдают бумагу контроля,
в которой прописано, что еще с меня причитается дополучить за штраф!!! Два,
три месяца шла переписка, хотя главный инженер, а затем председатель управления
казенных дорог и, наконец, министр путей сообщения уверяли контроль, что тех
сооружений, которые я должен был фотографировать, не существовало, и что я ими
же не был допущен до работ. Контроль стоял на своем, предлагая с меня взыскать
около 700 руб. И если бы добрый человек (дай ему Бог здоровья) начальник
отделения в контроле, писавший грозные бумаги, не смилостивился бы над моими
личными просьбами, то не видать бы мне и по сей день моих денег, да еще описали
бы за 700 руб. чрез полицию. Долго я просил этого начальника, наконец он изрек:
«Ну так и быть, я пропущу вашу квитанцию, только знайте, что я делаю
беззаконие». Конечно, я был доволен, — заключает свой рассказ инженер Демчинский,
этому беззаконию, хотя, признаюсь, до сих пор в ум не возьму: неужели пожирать
букву, упраздняя разум, может называться законным деянием? Меня не пускает к
вам в дом ваш швейцар, а другой швейцар налагает на меня штраф за то, что я
опоздал позвонить! И это говорят «по закону»! Вот, он каков контрольный закон!
А если я, производитель работ, представлю расписку моего дворника в получении
от меня денег за 200 рабочих дней?... Я немедленно получу их из казначейства».
Аргументы Я.Ф. Браве не в
одних курьезах заключались - они заслуживали, чтобы их признали весьма
серьезными. Вот что рассказывал Педро о передаче «доходных» функций от
Министерства путей сообщения Государственному Контролю.
«Остановимся прежде на контролировании доходов и результатах передачи
этого дела в ведение независимого от управления дороги учреждения. Подобная
постановка дела есть не более, как смешение двух совершенно различных по
существу понятий: контроля сборов и счетоводства по сборам (по доходам).
Сосредоточение всего счетоводства по текущим сборам дорог в ведении контроля,
помимо управления, и непосредственное подчинение станций по сбору доходов
ведению и наблюдению постороннего ведомства ставит управления казенных железных
дорог в полнейшую неизвестность относительно текущей деятельности руководимого
ими предприятия и лишает возможности следить за правильным применением
действующих на дороге тарифов, за наличными условиями и развитием коммерческого
значения данного района и за своевременным учетом доходов. Доходное счетоводство
станций, сосредоточенное на частных дорогах в так называемом «контроле сборов»,
составляющем часть управления дорогою, является единственным верным источником
познания многих существенных нужд дороги, как предприятий, требующих текущего и
неотложного удовлетворения; то же счетоводство в связи с коммерческой
статистикой представляет наиболее ценный материал для урегулирования тарифов и
направления деятельности управления в сторону выясняющихся новых требований,
предъявляемых к дороге со стороны частной торговли и промышленности; то же
счетоводство должно служить для управления дороги прямым указателем пригодности
данного станционного персонала. С другой стороны, контроль будучи весьма
условно заинтересован в своевременном учете доходов, не несет никакой
ответственности за то или другое ведение этого счетоводства. Поэтому
счетоводство ведется с опозданием на 10 и более месяцев, причем контроль сам же
и ревизует свое счетоводство, т.е. одновременно исполняет две функции
распорядительного управления и ревизионного учреждения. Таким образом, здесь-то
именно и является «самоконтролирование», против которого так много было
написано в последнее время».
«Неудивительно, - заключает Я.Ф. Браве в послесловии, - что при таком положении вещей агенты казенных железных
дорог перестали различать, что можно и чего нельзя, что законно и что незаконно
и бродят, как впотьмах, недоумевая, кому же вверена эксплоатация казенных
железных дорог, кто распорядитель и руководитель дела: ответственные за свои
действия органы Министерства Путей Сообщения или безответственные чины
Государственного Контроля».
А если все так, как
рассказывает Яков Федорович – а жизненный опыт подсказывает составителям, что
именно так – кто в многолетней кулуарной борьбе Министерства путей сообщения с
Государственным Контролем был «своим», а кто «чужим»? Поди разберись…
Литература:
· Браве Я.Ф. Государственный
контроль и государственные железные дороги (под псевдонимом Педро) – Спб., тип.
М.М. Стасюлевича, 1900.
· Озеров И.Х. Как расходуются в
России народные деньги. Критика русского расходного бюджета и государственный
контроль (по неизданным документам) – М., тип. товарищества И.Д. Сытина, 1907.