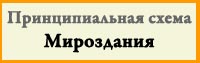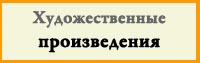Типичное
пристанище великого русского поэта средних способностей и непомерных амбиций:
письменный стол, заваленный рукописями, коптящий масляный светильник,
чернильница, недопитая бутылка вина и другие непременные атрибуты. За столом в
задумчивой позе и с гусиным пером в руке расположился сам Александр Сергеевич –
человек с продолговатым лицом, подбритыми бакенбардами и моноклем в глазу.
Особая напоенность и прозрачность деревенского воздуха за окном позволяют
сделать вывод, что мы застали властителя дум в разгар болдинской осени – поры
сочинения инструкций по бухгалтерскому учету.
Пушкин: Какая упоительная задача – реформирование
отечественной поэзии! Томление духа, смятение чувств, и все для того, чтобы в
один прекрасный момент ухватить рифму за хвост – так, чтобы все за головы
схватились и еще пару столетий после этого в себя придти не смогли... А
рифмовать ой как тяжело! Сгони, к примеру, сотню поэтов в одно место и прикажи
им: срифмуйте что-нибудь стоящее, про материально-производственные запасы или там
про события после отчетной даты, – и ведь ни черта не срифмуют. Как пить дать,
не срифмуют! – посему на белом свете имеется только один поэт, способный в
рифмах и на годы вперед предсказывать пути развития русской жизни.
Сколько раз бывало: как сочиню в какой-нибудь поэме –
так оно назавтра и случится. Придумаю, к примеру, что совместную деятельность
следует учитывать на семьдесят восьмом счете, глядь, поутру так взаправду и
оборачивается. Во всех журналах только и пишут: в соответствии с действующим законодательством
совместную деятельность следует учитывать на семьдесят восьмом счете. А тем же
вечером напишу, будто ничего такого отродясь не было, проснусь – и что бы вы
думали? Так и есть – окажется, что совместная деятельность уже не на семьдесят,
а на пятьдесят восьмом счете учитывается. Те самые журналы, которые третьего
дни писали одно, сегодня лепят другое, и все в полном соответствии с моими
предсказаниями. Правду говорят, что гениальный поэт всегда прорицатель. Посему
все Александра Сергеевича и любят, а попробуй такого прорицателя не полюби –
беды при случае не оберешься.
Но что это? Рука тянется к перу, а перо к бумаге. Не
иначе, как легкокрылая Муза опять посетила мою уединенную келью.
Хватается за
перо и начинает быстро выводить.
Господину тайному советнику Бенкендорфу.
Дорогой мой благодетель Александр Христофорович!
Не прошло и недели, как снова спешу поделиться своими
мыслями по вопросам реформирования отечественной словесности.
Перво-наперво, заверяю Вас в своем полном почтении и
подобострастии и напоминаю о достигнутых успехах. За последние десять лет мною
создано две новых поэмы и четырнадцать стихотворений, объединенных актуальной
гуманистической темой «Любить международные стандарты как женщину». В этих
масштабных полотнах использовано не менее десятка таких новаторских рифм, как
«доходы – расходы», «актива – пассива» и «баба – GAAP’а», что в процентном
отношении больше, чем у Жуковского и Державина вместе взятых. С моими
произведениями ознакомлено не менее двух миллионов крестьян, в том числе
отдаленных губерний, под угрозой порки на конюшне выказавших к живому русскому
слову неподдельный интерес. Если дело будет с тем же успехом двигаться и
дальше, начинающее русское стихосложение через сто, двести или триста лет
сможет наконец обрести свое неповторимое лицо.
Но надлежит еще много и много потрудиться, дабы свет
прогрессивной поэзии проник в самые темные уголки нашей захолустной родины.
Увы, многие рифмоплеты позволяют себе в последнее время баловаться
низкопробными стишками, и это в то историческое время, когда с ними бок о бок
творит солнце русской поэзии. Пора положить конец этой языческой вакханалии!
Посему предлагаю подать Государю Императору на подпись указ об аттестации всех
поэтов, дабы бумагу марать могли лишь достойные, а прочие унялись в своем
поэтическом рвении. Пока не будет это исполнено, каждый сможет думать, что
захочет, и в оборотно-сальдовых ведомостях писать, что в голову взбредет, а это
внесет сумятицу в умы и души моих многочисленных почитателей и тогда мы не
достигнем той гармонизации, унификации и стандартизации поэзии, коей так
жаждем. Разумея важность вопроса, готов проводить аттестацию стихотворцев
лично, с участием всех указанных Вами лиц. Уверен, что никакие будущие
лермонтовы, тютчевы и есенины не проскользнут мимо нашего бдительного ока без
того, чтобы не оставить на нашем попечении хоть какие-то скромные средства ко
вспоможествованию русской поэзии, о коей так печемся. А ежели кто без аттестата
полезет, того надлежит наказывать пеней, и так пенять до тех пор, пока не
одумается и сам за аттестатом не прибежит.
Еще хочу пожаловаться, милостливый государь, на
состояние здоровья: печень стала в последнее время пошаливать, а сегодня ночью
во сне так вообще привиделось, что вызвали Вы меня к себе в кабинет и устроили там
Черную речку... Не пора ли Вашему покорному слуге с собственноручного
сочинительства, равно как и соавторства, перейти на консультирование по
вопросам стихосложения или по крайней мере на редактирование виршей? Как-то:
«Жуковский, под редакцией А.С. Пушкина» или «Вяземский, под редакцией А.С.
Пушкина» или «Комментарии к русской поэзии, под редакцией А.С. Пушкина». Это
позволило бы солнцу русской поэзии пережить тягостное безвременье в смысле
финансов, задавая вместе с тем верное направление отечественной словесности.
Жду Вашего дозволения и остаюсь с нижайшем к Вам почтением,
Ваш А.С. Пушкин.
Няня!.. Арина Родионовна!..
Появляется
няня – элегантная крестьянская молодка, с записной книжкой в одной руке и
карандашом в другой.
Что там, пушкинисты приходили?
Няня: Приходили, Александр Сергеевич. Интересовались,
почему Ваша новая поэма «План счетов» шибко напоминает старую – некоторые
главы, как есть, слово в слово... А еще спрашивали, что Вы имели в виду, когда
в стихотворении «Учет расходов» написали, что расходы на осуществление
спортивных мероприятий расходами не являются.
Пушкин: Так в тиши уединения подсказала мне Муза.
Няня: В точности так, Александр Сергеевич, я им и
ответила... Они, как и давеча, оставили энтой Музе подношения, чтобы она им все
растолковала, но один при этом нехорошо смеялся и все спрашивал, не слишком ли
дорого эта девка берет.
Пушкин (приходя в
ярость): Низкие завистники! Пакостники! Клевреты!.. Разве в мои
профессиональные обязанности входит объяснять им каждое озарение моего непредсказуемого
вдохновения, лепет моего поэтического подсознания, все чудесные видения,
возникающие в моем переполненном прозрениями мозгу? И это при том, что каждая
моя строка есть переложение на русский язык признанных образцов лучших
зарубежных стандартов и находит одобрение у тайного советника Бенкендорфа, а
иногда – страшно вымолвить – и у статс-секретаря самого государя Императора!
Нет, это просто неслыханно, чудовищно! Покуда все огромное российское
государство с напряженным вниманием следит за перипетиями моего творчества,
вздрагивая от каждого росчерка моего пера, некоторые недостаточно
квалифицированные почитатели смеют заниматься очернительством, и кого? –
человека, внедряющего зарубежный интеллект в отечественное правосознание. Ну
нет, Александра Сергеевича голыми руками не возьмешь, на дуэль не вызовешь! Да
кто вы такие, чтобы с самим Пушкиным тягаться? Пушкин – это не фамилия, это
вроде титула: государем даден во славу российской словесности, однажды и вовеки
веков. Никуда вы, шутники недальновидные, от меня не денетесь: и сами вы, и
дети ваши, и внуки ваши будут меня и последователей моих читать и перечитывать,
до дыр зачитают и наизусть выучат. Плевать я на вас хотел с высот русской
поэзии. Нет, ну просто распоследние подлецы и мерзавцы!
Няня: Как распорядитесь, Александр Сергеевич?
Пушкин (помаленьку
остывая): Этого пушкиниста, который веселый слишком, из списков вычеркнуть
и на порог не пущать. Он не пушкинист боле, нехай в лермонтоведы
переквалифицируется и попрыгает без моих разъяснений. Я специально так
витиевато пишу, чтобы никто ничего не понял. Пусть каждый знает: с Пушкиным
лучше не ссориться, без меня никто строки в инструкции не осилит понять, потому
как – Пушкин. Слово это для всякого человека на Руси свято. Да, еще... Созови
крестьян, буду им стихи читать.
Няня: В поле они, Александр Сергеевич.
Пушкин: Созывай, говорю... Да пусть с поля чего-нибудь
прихватят: ягод там, грибочков или пирожков. Курочка по зернышку поклевывает.
Няня: Слушаю, Александр Сергеевич.
Делает
пометку в записной книжке и удаляется.
Пушкин (еще горячась):
Нет, надо же, Муза моя им не по душе. Муза, Муза, жри от пуза... Так вот
помаленьку и родится стихотворение: одно слово магически притягивает другое,
дабы обернуться в конце концов легкозвучной рифмой. Еще мгновенье, и стихи
невольно потекут... Где ты, моя Муза, мимолетное видение, душа моей поэзии и
утеха моего бытия, умоляю, приди ко мне хотя бы часика на полтора. Как ты там,
в своей лондонской штаб-квартире, одинокая и недоцелованая, вспоминаешь ли обо
мне дождливыми британскими вечерами? (Мало-помалу
впадаем в поэтический транс). Как некогда я любил перебирать твои белокурые
МСФО 2 «Запасы», рассыпавшиеся под моими завороженными ладонями, гладить тебя
по шелковистой МСФО 16 «Основные средства», вдыхая нежнейший и упоительный
аромат! Как я жаждал, в тоске и смятении, лицезреть МСФО 39 «Финансовые
инструменты: признание и измерение», сулящие такие кладези мудрости, которые
никакому другому сочинителю и в страшном сне не приснились бы! А МСФО 20 «Учет
правительственных субсидий и отражение информации о правительственной помощи» –
вспомнить, сколь тщетно бился я в любовной неге, покуда не приоткрыла ты
ослепительную завесу тайны, вдохновившую меня на многие годы плодотворного
кабинетного труда! Нет, нет! Не могу боле вспоминать, слишком мучительно это
для моего смятенного сердца... (Внезапно
взгрустнув). А ведь девка еще та, прости Господи... С кем только в свои
двадцать восемь годков не была, кому только в попутчицы не набивалась, кому
свои МСФО 24 «Раскрытие информации о взаимосвязанных сторонах» напоказ не
выставляла, и ни одному-то порядочному дворянину ни в одной из сторон света
была не потребна боле чем для ознакомления, покуда Александр Сергеевич ей не
прельстился да Бенкендорфа не уговорил. Знамо дело: любому сочинителю для
вдохновения потребна своя Муза, и что за беда, коли она один глаз рябая и на
обе ноги хромая – не каждый из поклонников и разберет, особливо ежели напевно и
с придыханием произнести «Му-за» да соизволения у начальства испросить. Пущай,
малахольная, сидит в своем Лондоне и знать о нас не знает, а мы в нашенских
глухих медвежьих губерниях ее по собственному усмотрению пользовать будем. У
нас, поди, и люди поумней и природа покрасивей, чем в любой Европе. Да по
сторонам токмо оглянуться – на дворе болдинская осень: пернатые поют свои
прощальные песни, озимые вымерзают на корню, мужики скоро напялят меховые
треухи и пойдут кататься с горы на санках, а когда потеплеет, пересядут на
телеги и поедут в город подавать декларации о доходах. Осенняя пора, очей
очарованье... Тьфу, что за ерунда в голову лезет, надо ж придумать такое –
«очей очарованье»! Пора, пора браться за настоящее творческое сочинительство!
О, как тяжка ты и одновременно притягательна, обуза поэзии – век бы тобой не
занимался, ежели бы не нужно было постоянно заявлять о себе по всем российским
окрестностям.
Берет перо,
макает его в чернильницу, затем выводит:
Друг Кюхля!
Как ты там поживаешь на своей каторге? Не докучают ли
тебе сибирские морозы?
Задумывается,
но сразу продолжает.
Но что это я все о тебе и о тебе. У нас в Болдине тоже
похолодало: сижу себе в кожаном кресле, попиваю горячий пунш, греюсь да тебя
вспоминаю. Последние полгода, правда, стали одолевать всякие писаки из
продажных журналистов. Было у меня одно четверостишие, не помню – не то из
сонета «Нематериальная активность», не то из баллады «Государственный
помощник». Ладное такое четверостишие:
Зимою жать, а летом сеять.
Доход с расходом измерять,
А ежели что не измерить –
В условных единицах брать.
И что же ты думаешь, мой царскосельский друг? Нашлись
недовольные, сообщили: сеют весною, а жнут осенью. Им-то, право слово, что за
дело? Написано черным по белому: зимою жать, а летом сеять – ну и жните себе,
когда велено. Настоящий поэт сам создает реальность и диктует ее миру. Если что
не так, сообщат в следующих изменениях нормативной базы, а покуда работайте по
действующему законодательству. На Руси сыздавна так заведено было: барину
видней, когда сеять, когда жать, а когда бухгалтерские проводки в ведомости
сажать.
А давеча, в позапрошлую декаду, изобрел я новую
стихотворную форму, называется – пэбэушка. Это как частушка, только
запоминается не так хорошо и размером чуток длинней. Соль в том, что в отличие
от частушек, представляющих собой русскую народную стихослагательную форму,
пэбэушка есть форма прогрессивно-западная, но с переносом на скудный русский
суглинок – в этом я со свойственной мне проницательностью зрю главное
направление реформирования отечественного стихосложения.
Будет оказия, вышлю тебе небольшой подарок. Как
сверток получишь, найдешь в нем пять пудов сочиненных мной за нынешнюю осень
инструкций. Не в службу, а в дружбу, распространи их между тамошними
крестьянами, пусть учатся рифмовать и помаленьку просвещаются. А еще передай
им, что ежели мои стихи учить наизусть не станут, приедет податной чиновник и
будет их бить батогами без жалости, покуда ума не наберутся.
Опричь того, неплохо организовать филиал клуба
пушкинистов, в целях распространения моей поэзии и вообще реформирования
российской словесности. Главно – привлечь поболе народу, из местных помещиков и
подьячих, а уж за ними и селяне толпой повалят. Само собой, друг Кюхля, что
тебе гарантировано место председателя филиала, лишь бы дело двигалось гладко да
споро. За приобщение к высокой поэзии брать надлежит с каждого крестьянского
двора помене десятины, но так, чтобы и не продешевить. Что наберешь, три
четверти посылай мне. Если дело сладится, будешь по своей Сибири как сыр по
вологодскому маслу кататься – на тройках с бубенчиками. Не скучай, а еще лучше
– наплюй на самодержавие, повинись во всем да и махни обратно в Москву, таких
дел с тобой понаделаем, диву дашься.
Твой Сашка.
Ну вот. Кажется, окончил... Самое время подключать к
делу прогрессивно мыслящих дворян – начинание-то уж больно реформаторское. Нет,
положительно не могу жить без реформ – таким, видно, уродился!
Появляется
няня.
Няня: Александр Сергеевич, крестьяне собрались, в передней
толкутся.
Пушкин: Зови сюда, но предупреди заранее: если какие вопросы
– по поводу там учета материалов или заполнения отчетности, – пусть обращаются
в клубы пушкинистов, и чтобы в письменной форме. В клубах им все как есть
объяснят.
Входят
несколько сумрачных, дико озирающихся по сторонам крестьян. Они переминаются с
ноги на ногу и мнут в руках картузы, явно не зная, зачем их пригнали с поля, но
нутром предчувствуя недоброе.
Пушкин (на подъеме):
Здравствуйте, мои дорогие друзья!
Крестьяне (опасливо):
Вестимо, барин.
Пушкин: Понимаю ваше нетерпение в ожидании моих новых
стихотворений и приветствую его. Представляю, как вы не спите ночами и при
свете лучины все думаете и думаете: чем-то нас Александр Сергеевич завтра
порадует, что-то для нас сотворит, чтоб нам не скучно было? Скоро, друзья мои,
уже совсем скоро сбудутся ваши самые умопомрачительные фантазии. Но перед тем,
как потрясти вас своим очередным поэтическим произведением, дозвольте
произнести небольшое вступительное словцо.
Вам безусловно ведомо, что великий и могучий русский
язык остро нуждается в научной реформе, каковую на Руси нельзя вводить иначе
как в освященном начальством порядке. Я забрал это богоугодное дело в свои
руки, а посему можете быть покойны – реформа состоится, даже ежели неясно
будет, что именно, как и зачем нужно реформировать, а также сколько народу при
этом костьми поляжет. Тут не кости главно, а главно – что Пушкин свой на земле
народился, а я вот он, перед вами.
Крестьяне (вразнобой):
Оставили бы вы нас, Александр Сергеевич, в покое, Христа ради... Зерно-то
осыпается... Век бы за вас тогда, барин, Бога молили.
Пушкин: Да-да, друзья мои. Внимайте дальше. Так вот, своей
реформой мы прорубим окно в Европу, и со временем наша слабосильная поэзия
станет великой и изысканной. А покамест я сделал несколько подстрочных
переводов на русский. Это, скажем так, международные стандарты поэзии. Слушайте
и наслаждайтесь, да не запамятуйте все точь-в-точь исполнять, как в них
записано, – сказано доходы, значит доходы; сказано расходы, значит расходы, – а
не то кожу заживо сдеру и на просушку вывешу.
Пушкин
начинает вдохновенно декламировать: фалды его сюртука летают из стороны в
сторону, монокль в глазу страшно посверкивает; по всему видно – уже никакие
доводы и аргументы, кроме окрика Бенкендорфа, не смогут остановить исступление
самозваного титана. Народ, ослепленный заревом поэтического гения, безмолвствует.
Предупреждение: все лица и события этой пьесы, включая
поэта Александра Сергеевича Пушкина и осуществленную им реформу русской поэзии,
вымышлены и прототипов в реальной бухгалтерии не имеют.