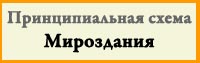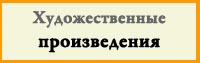ИСТОРИЯ РУССКОЙ БУХГАЛТЕРИИ
1938 год
Лев Ильич Инжир
По поводу
ГУЛАГа… Помните одно из лиц новой русской бухгалтерии послереволюционного
периода: Льва Ильича Инжира – молодое и брезгливо-заносчивое? Вскоре этому
подававшему надежды бухгалтеру и общественному деятелю пришлось на личном опыте
убедиться: не все в теории бухгалтерского учета, равно как и в теории
коммунизма, ровно и гладко, как это ему представлялось в 1917 году.
Отрывок из еще
одних изданных за рубежом мемуаров, некого Иосифа Бергера, бывшего коммуниста.
«Лев Ильич Инжир
Я сразу же обратил внимание на одного из моих
сокамерников. Лев Ильич Инжир был человеком с преждевременно постаревшим,
изможденным лицом, с болезненно заостренными типично еврейскими чертами. Его
манера держаться и разговаривать выдавала в нем человека большой культуры,
большого жизненного опыта. Я вспомнил, что уже и раньше слышал о нем, как о
выдающемся специалисте в области финансов, в течение ряда лет проработавшем в
дирекции Госбанка, а потом — главбухом Беломорстроя — канала, построенного
руками сотен тысяч заключенных. Инжир славился тем, что в последний день
каждого истекающего финансового года у него уже был готов к сдаче годовой
баланс. О нем рассказывали легенды, как об исключительно способном
организаторе. Его ставили в пример на крупнейших стройках и предприятиях по
всему Союзу. Инжир и я решили держаться вместе — ведь интересный спутник важен,
как воздух, в этапах, иногда занимающих по несколько недель.
Инжир рассказал, что его арестовали в 1938 году
по обвинению, как обычно тогда делалось, в саботаже, т. е. «экономической
контрреволюции», а также по статье 58/10 — антисоветская агитация. В результате
ему дали 15 лет. О своем «деле» Инжир больше ничего не сказал, зато часами
рассуждал об экономике и политике, что, в общем, не часто встречалось среди
заключенных, годами отрезанных от внешнего мира. Инжир жадно расспрашивал меня
о Западе. Оказалось, что и в лагерях Инжир работал в относительно
привилегированных условиях, имел доступ к научной литературе, в частности,
периодической, читал все центральные газеты, часто имел возможность слушать
радио и даже общаться с начальством СИБЛАГа. Из бесед с ним нетрудно было
установить, что теоретически он резко расходится с официальной советской точкой
зрения по большинству вопросов и что он всей душой на стороне
западноевропейских социалистов, полностью соглашается с их оценкой положения в
СССР и в мире в целом. Он считал, что единственным верным путем для победы
социализма была бы мировая гегемония США. Что же касается советского экспансионизма,
то он рассматривал его только как реакционную попытку задержать прогресс и
победу социализма во всем мире. Из этих положений он и исходил при оценке
любого политического события. У нас иногда возникали споры на эту тему, причем
я пытался доказать правильность ленинской оценки капитализма, хотя, как я
объяснил Инжиру, и не был согласен с интерпретацией ее в текущей советской
прессе. Когда Инжир убедился в том, что меня можно не опасаться, он прямо
заявил, что считает ошибкой — как считал это и тридцать два года назад — захват
власти пролетариатом в индустриально отсталой стране с политически недостаточно
развитым рабочим классом. В этих условиях, говорил он, захват власти был
величайшей ошибкой Ленина. С 1912 года т.е. с начала своей политической деятельности
Инжир был горячим последователем отца русской социал-демократии Г. В.
Плеханова. Ошибкой Ленина Инжир считал и те требования, которые в связи с
Первой мировой войной повели к расколу II Интернационала. Только оставшиеся во II Интернационале партии представлялись Инжиру
истинно марксистскими. Его убежденность в этом была настолько сильна, что он не
только ненавидел самого Ленина, но и поддержавшего Ленина Троцкого, взгляды
которого с начала Первой мировой войны по существу совпадали с ленинскими. Он
ненавидел даже Мартова и тех социал-демократов, которые после Октябрьской
революции заняли «центристскую» позицию и не воспрепятствовали расколу II
Интернационала.
Подробнее биографию Инжира я узнал, когда мы уже
прибыли на место назначения. Оказалось, что нас привезли в Тайшетский спецлаг
особо строгого режима, где к тому времени уже находились десятки тысяч
политзаключенных. В первые годы после революции Инжир, отойдя от политической
деятельности, занимался исключительно вопросами экономики. Как большинство
меньшевиков и плехановцев, он считал, что большевистская власть просуществует
недолго. А чтобы предотвратить полную разруху и экономический хаос, он решил,
забыв на время о своих убеждениях, отдать все силы восстановлению разрушенного
войной, революцией и гражданской войной народного хозяйства.
В двадцатые годы Инжир пользовался доверием
правительства, и к нему тоже относились с уважением как к специалисту в своей
области. Когда финансовыми делами Советского Союза ведал Сокольников, Инжир
принимал участие в выработке мер по стабилизации рубля по отношению к курсу
золота, а впоследствии в определении обменного курса нового рубля. В 1926 году,
несмотря на то, что в прошлом он был меньшевиком и даже не выступил с публичным
покаянием, его, тем не менее, включили в состав советской делегации на
международную финансовую конференцию в Голландии, вернувшись с которой он
выступил с рядом статей о работе и результатах этой конференции.
В то время шла борьба между партийным
руководством и оппозицией. Инжир с особо острой враждебностью относился к
группе Троцкого-Зиновьева и их сторонникам. Он видел в них неисправимых и
бескомпромиссных большевиков, тогда как «правых» считал людьми, искренне
заинтересованными в стабилизации положения и противниками авантюризма в политике
и экономике. Левая оппозиция, как он хорошо понимал, намерена была продолжать
политику Ленина, в которой Инжир видел корень всего зла. Он считал поражение
левой оппозиции заслуженным наказанием ленинцев и всех тех, кто их поддерживал.
Он мог бесконечно говорить о своей ненависти к Троцкому и его сторонникам. Он
уверял, что Немезида проявила себя куда больше во время Октябрьской революции,
чем в период любой другой революции, и что самая черная реакция не смогла бы
расквитаться с большевиками более жестоко и неумолимо, чем это сделала сама
революция.
Все то время Инжир работал честно и надеялся, что
если советский строй и не изменится радикально, то все же он сумеет и при нем
жить и работать. Вероятно, не мало «спецов», подобных Инжиру, и в самом деле
прижились в новых условиях и были приняты в среде, окружавшей аппарат Сталина.
Работали они вполне добросовестно, тщательно скрывая свои настроения и
убеждения, в надежде на то, что сама история приведет к другим, более спокойным
временам. Нет сомнения, именно для того, чтобы еще больше укрепить лояльность
этих людей, а также предупредить всякую потенциальную вероятность протестов,
одних держали в изоляции, а другим время от времени напоминали о дамокловом
мече, постоянно занесенном над ними.
Совершенно неожиданно Инжир был арестован в
начале 1930 года. Почему именно его выбрали среди оставшихся еще меньшевиков и
плехановцев — мне не совсем ясно, хотя он и давал мне читать сотни копий жалоб
и заявлений, написанных им в течение 20 лет после своего первого ареста. Может
быть, он неосторожно что-нибудь сказал. Не знаю. Как бы то ни было, но что-то
радикально переломилось в нем после этого ареста, да так и осталось до конца
его дней. На него оказывали сильное давление с целью заставить «признаться». В
те годы обычно — но не всегда — применяли не физические, а моральные средства
воздействия, и вполне вероятно, что ГПУ удалось склонить его к сотрудничеству
не только угрозами (было бы достаточно, наверно, сломить его простой угрозой
расстрела), но и посулами. Ему предъявили ультиматум: либо отказаться от дачи
«показаний» и бесследно исчезнуть, с полной конфискацией имущества и квартиры в
центре Москвы и с репрессиями против жены и детей, которых он обожал, либо
пойти на сотрудничество, в случае чего он не только немедленно был бы
освобожден, но и получил бы хорошо оплачиваемую и солидную должность с
возможностью продвижения по службе и другими особыми привилегиями. Но что бы ни
послужило аргументом, Инжир согласился и, по всей вероятности, помог в
подготовке меньшевистского процесса 1930 года.
Когда Инжир, 20 лет спустя, рассказывал о тех
методах, которые применялись тогда, чтобы заставить его пойти на предательство
лучших своих друзей и подписывать заведомо сфальсифицированные обвинения, он не
скрывал ни глубины своей ненависти, ни горечи пережитого. Тогда же, в 1930
году, он решил, что, поскольку его силой вынудили так поступить, он посвятит
остаток жизни мести тем, кто отнял у него самое драгоценное в жизни — чистую
совесть. Он задался целью подорвать существующий строй изнутри, используя для
этого тот же строй: помогая уничтожению одних коммунистов другими, да так,
чтобы погибло их как можно больше, а еще лучше, чтобы они все погибли. И таким
образом, по его мнению, жить в а мире стало бы легче.
В 1931 году Инжир, до этого негласно
приговоренный к десяти годам заключения, был освобожден и назначен на крупный
пост в системе органов безопасности. Его назначили главным бухгалтером ОГПУ,
осуществлявшего в то время гигантскую программу промышленного строительства по
всему Союзу руками, главным образом, заключенных, т.е. бывших «кулаков» и
«подкулачников», которых к тому времени насчитывалось уже до пяти миллионов.
Работали эти «зеки» в условиях, которых не выдерживали вольнонаемные. Таким
образом Лев Ильич и попал на Беломорстрой, где прославился на весь Союз.
Семь лет жил он двойной жизнью. Отдавал свой труд
и способности строю, который он глубоко ненавидел (разумеется, иначе поступить
он и не мог, поскольку одно неосторожное слово, один шаг, который могли бы
расценить как «саботаж», привели бы к его немедленной гибели). С другой же
стороны, в качестве секретного осведомителя политического отдела НКВД он мстил
партии, компрометируя ее членов, с которыми он сталкивался по работе, втягивая
их в опасные контакты и содействуя таким образом их физической ликвидации.
Поступая так, он в какой-то мере вроде бы вымещал
на них свою злобу за то предательство, на которое его вынудили. Что же касается
предаваемых им членов, партии, то тут его совесть была, как он сам считал,
чиста. Он был убежден, что беда, в которую попадали большевики-партийцы, — лишь
небольшая часть той платы, которая приходится с них за катастрофу России и
социализма.
В разгар массовых арестов старых большевиков в
1936-37 годах и во время процессов Зиновьева-Каменева, Пятакова, Радека и
других карьера Инжира была в зените. Ежов назначил его главным бухгалтером
ГУЛАГа — Государственного управления лагерями ГУЛАГ в то время был настоящей
империей, государством в государстве. На объектах ГУЛАГа по всему Союзу в
тридцатых-сороковых годах работали десятки миллионов «зеков».
Назначение это являлось не только признанием его
ценности как специалиста, но и выражением полного к нему доверия и наличия
связей на самых верхах НКВД. Прямо или косвенно, но по роду работы главбуху
ГУЛАГа приходилось иметь дело со строго секретными документами больше, чем
кому-либо другому (В число объектов ГУЛАГа входили и военные базы и
укрепления). Планы строительства новых промышленных объектов поступали к нему
на просмотр еще до того, как они в виде «совершенно секретных» попадали в
соответствующие наркоматы. Балансовые отчеты советских учреждений, в том числе,
конечно, и ГУЛАГа, включали в себя данные о капиталовложениях, методах их
использования и пр., так что при знакомстве с ними можно было следить за всеми
деталями экономического развития соответствующего сектора. Так, в начале первой
пятилетки в руках Инжира находились все цифры, отражавшие стоимость закладки
фундамента советской государственной машины. К нему поступали, в частности,
ежедневные сводки о выработке из всех лагерей Советского Союза, раскинувшихся
на площади свыше двадцати миллионов квадратных километров: от островов Диксона
и Шпицбергена до Камчатки и Средней Азии. Каждый лагерь составлял сводку о
количестве «человекочасов», отработанных заключенными, а также о невыходах на
работу по болезни и другим причинам. Вся эта информация попадала в конце концов
в московский ГУЛАГ Сводки содержали и такую информацию, как число этапируемых
заключенных, а также графу «смертность».
На основании этих материалов составлялись
ежедневные планы и графики системы ГУЛАГа, причем все они поступали в Отдел
главного бухгалтера, где вносились в книги и отчеты. Поскольку все эти
материалы попадали на стол к Инжиру, он был одним из очень немногих в Советском
Союзе, кто знал истинную цифру заключенных в лагерях.
Рассказывая об этом периоде, Лев Ильич с ужасом
вспоминал непрерывно растущие данные в графах «прибытие» и «смерть». У него и у
некоторых других в гулаге сложилось
впечатление, что вся страна превращена в один нескончаемый гигантский лагерь.
Постоянный рост смертности служил время от времени предметом озабоченности и
обсуждения на верхах ГУЛАГа, поскольку он грозил невыполнением плана. В таких
случаях посылались соответствующие запросы и указания начальникам лагерей.
Конечно, ни к чему было расследовать причины отдельных «смертей», если тысячи
случались ежедневно. Поэтому была выработана норма смертности. Если она в том
или ином лагере резко возрастала, то на место выезжала комиссия по
расследованию (то же, впрочем, делалось, если смертность бывала намного меньше
«нормальной»). В случаях возросшей смертности на места прежде всего
отправлялись телеграммы: «прекратить смертность». Иногда доходило и до суда над
комендантами лагерей с особо высокой смертностью, в результате которого их либо
снимали с должности, либо — в редких случаях — расстреливали. Другими словами,
не лагерная система пересматривалась, а ответственность возлагалась на
отдельных ее исполнителей, допускавших «перегибы». Иногда это доводилось до сведения
«зеков», чтобы «компенсировать» их в какой-то мере...
Инжир проработал главбухом ГУЛАГа около двух лет,
и все время, как он часто говорил мне, у него было предчувствие неизбежно
надвигающегося конца. Группа специалистов, к которой он принадлежал, сменила
группу, отстраненную после смещения в 1936 году Ягоды. К весне 1938 года, после
суда над Бухариным, Рыковым и другими, включая и Ягоду, Инжир почувствовал, что
и положение сменившего Ягоду Ежова, до этого имевшего тесный контакт со
Сталиным, пошатнулось. Лев Ильич рассказывал мне о своем разговоре в тот период
с одним из ветеранов НКВД, евреем, пересыпавшем свою речь изречениями из
Талмуда. Этот человек продержался в НКВД с 20-х годов, и хотя не был членом
партии, все же по личной рекомендации Дзержинского был принят на работу в ГПУ.
Он уцелел и в период репрессий 30-х и 40-х годов и, как мне сказали, в 1956
году в Москве, в возрасте 70 лет, вышел на пенсию. В разговоре «по душам» с
Инжиром этот человек посоветовал ему, пока не поздно, уйти с работы, так как в
НКВД ожидалась новая буря.
Инжир решил последовать его совету и подал
заявление об уходе, ссылаясь на состояние здоровья. Некоторое время спустя его
вызвали к заместителю наркома внутренних дел, ответственному за лагеря, Чернышеву,
где ему было отказано в увольнении с работы. Для поправки здоровья ему дали
путевку на шесть недель в санаторий НКВД на Кавказе. По возвращении оттуда он
сразу же заметил, что атмосфера сгустилась еще больше. Ежов в это время был
назначен по совместительству наркомом водного транспорта. Однажды поздним
вечером Инжира вызвали к Ежову, который до этого имел с ним редкие контакты по
чисто служебным вопросам. Ежов сидел на диване в рубашке с засученными
рукавами. Волосы растрепаны, глаза заплыли, явно пьяный. Перед ним стояла целая
батарея бутылок с водкой. Было заметно, что он возбужден и встревожен. То и
дело кто-то звонил по телефону и Ежов отвечал грубо и цинично. Он предложил
Инжиру перейти на работу в Наркомат водного транспорта, где, по словам Ежова,
«развели сплошное воровство и растраты». Ежов сказал, что главбух в Наркомводе
никуда не годится и его следует посадить. Инжир попытался отказаться, ссылаясь
на здоровье, но Ежов приказал ему немедленно принять новую должность. Когда
Инжир уже выходил из кабинета, Ежов вдруг задал несколько вопросов, касавшихся
прошлого Инжира. При этом он посмотрел на него недобрым взглядом, и Инжир
понял, как глубоко его ненавидит Ежов и что вообще судьба его решена.
А еще через несколько дней Лев Ильич был
арестован в своем новом кабинете в Наркомводе и доставлен на Лубянку, где
совсем недавно состоялся разговор с Ежовым. Ему предъявили обвинение в
«саботаже с контрреволюционными целями» в период работы в ГУЛАГе, прибавив еще
дополнительные обвинения, связанные с меньшевистским прошлым Инжира, в том
числе и те, которые были с него сняты при освобождении в 1931 году.
Оказалось, что хотя ордер на арест был подписан
самим Ежовым, на деле его арест был связан с волной репрессий против самого
Ежова и его аппарата. В первые дни после ареста Инжир ожидал, что ему придется
разделить судьбу ближайших сотрудников Ежова: несколько десятков из них было
расстреляно, а Инжир и на этот раз выжил. Его приговорили всего лишь к
пятнадцати годам.
Этим, видимо, он был обязан своим бывшим коллегам
по работе в ГУЛАГе. Его отправили
сначала в лагерь на юго-западе Сибири, где условия были относительно сносными —
отчасти из-за более теплого, чем на север от сибирской магистрали, климата,
отчасти же потому, что лагеря там были более «обжитыми». (Вообще говоря, старые
лагеря считались лучше новых, где условия были отвратительными, снабжение
неналаженным, и вообще, «организационные» вопросы не утрясены).
Вскоре после прибытия в лагерь Инжиру удалось
устроиться бухгалтером, а поскольку по приговору не полагалось конфискации
имущества, жена и дети, оставшиеся в Москве, имели возможность поддерживать его
посылками. Его жене даже разрешили приехать в лагерь, где она провела с мужем
несколько дней, что было, конечно, редким исключением.
Инжир много раз подавал заявления с просьбой о
пересмотре своего дела. И хотя в этом ему отказывали, все же его как-то
выделяли среди других заключенных и не только освобождали от общих работ, но
даже избавляли от голода. Кроме того, Лев Ильич имел возможность читать книги по
экономике и даже делать пометки для своей, как он надеялся, будущей книги.
Все это Лев Ильич рассказал мне по пути на новое
место, где, в дальнейшем, мы встречались с ним лишь время от времени. У нас уже
не было ни сил, ни желания беседовать на отвлеченные темы. По мере того, как я
знакомился с другими заключенными, до меня постепенно стали доноситься слухи,
что Льва Ильича считают доносчиком и провокатором. Традиция предупреждать друг
друга о таких людях» ведется в России еще с царских времен. Поэтому меня и
предупредили, что лучше не знаться с Инжиром. Среди предостерегавших меня был
литовец, которого я назову «Георгием» Георгий был активным членом партии,
арестованным в 1937 году. Его приговорили сначала к десяти годам, а потом дали
еще десять, уже в заключении. Он всячески старался скомпрометировать Инжира.
Сначала я думал, что он почему-то старается войти ко мне в доверие (ревность и
даже ненависть между заключенными были обычным явлением в лагерях). Георгий не
отставал от меня, и через несколько месяцев я уступил и согласился на его
предложение. Он решил устроить очную ставку с Инжиром, на которой собирался
припереть его к стенке и разоблачить в моих глазах. Я старался избежать этого
всеми силами, во-первых, потому, что само по себе это было мало приятно, а
во-вторых, могло стать весьма опасным в том случае, если Инжир действительно
был доносчиком. В конце концов Георгий, без предупреждения, под каким-то
предлогом привел меня в барак, когда все «зеки» были на работе. Инжир был в
этом бараке дневальным. Георгий запер дверь и сразу же обрушился на него:
— Когда мы были вместе в таком-то лагере, вы
долгое время записывали разговоры со мной и доносили их плюс всякое вранье в
Третий Отдел. Когда началась война, и меня арестовали в лагере, эти доносы
являлись материалами следствия. В качестве свидетеля обвинения вы сами все это
еще раз подтвердили. Теперь, в присутствии Бергера, скажите — правда это или
нет. Я хочу его предостеречь, потому что вы и сейчас занимаетесь тем же.
Инжир ответил не сразу, потом он сказал:
— Допустим, это правда. Но скажите уж Бергеру и
то, что я спас вам жизнь.
Георгий повернулся ко мне:
— Это тоже правда — он спас мне жизнь.
Оказалось, что на суде Георгий не мог отрицать
показаний Инжира, поскольку он действительно в 1940 году при нескольких других
свидетелях высказался критически по поводу заключения пакта между Сталиным и
Гитлером в 1939 году. Но следствие интересовало другое, и от этого зависела
жизнь обвиняемого. Вопрос стоял так: продолжал ли он свою «антисоветскую
пропаганду» и после начала войны 1941 года? В мирное время подобное
«преступление» подлежало наказанию относительно мягкому — 10 лет заключения, а
в военное — влекло за собой смертный приговор. В то время такие приговоры
приводились в исполнение немедленно. Инжир показал, что Георгий после немецкого
вторжения не вел подобной «пропаганды», и этим спас Георгию жизнь. Эта полная
драматизма очная ставка двух смертельно ненавидящих Друг друга «зеков» в пустом
полутемном бараке, в зоне, обнесенной колючей проволокой, среди вышек с
вооруженной пулеметами охраной, в глухой сибирской тайге, напомнила мне
средневековую сцену — трибунал инквизиции. Невозможно было осудить ни того, ни
другого. Георгий доказывал, что Инжир «сексот». Инжир утверждал, что одного его
слова хватило бы, чтобы погубить Георгия — не только его личного врага, но и
человека, принадлежавшего к наиболее ненавистной Инжиру политической
группировке — большевиков-троцкистов.
После этого я стал избегать политических
дискуссий с Инжиром, но все же продолжал с ним встречаться. Я понимал, сколь
рискованными для меня могли быть подобные дискуссии, но, вместе с тем,
убедился, что в Инжире сохранились какие-то остатки совести. Ведь он
действительно легко мог бы погубить Георгия, знавшего достоверно, что Инжир —
«сексот», и все-таки не сделал этого. Кроме того, было бы опасно сразу же
прекратить общение со Львом Ильичем, поскольку я уже успел высказать ему свои
взгляды. Ведь жизнь « зека» часто зависела не только от того, что он делал, но
и от того, что он отказывался делать, равно как и от мнения о нем лагерной
администрации и ее «секретных сотрудников».
Инжир никогда не вспоминал об эпизоде с Георгием,
хотя и дал мне понять, что не испытывает раскаяния. Он считал, что видный
коммунист, преследовавший членов других партий, — его законная добыча. К этому
он добавил, что от рук Георгия пострадало несколько евреев (а сам Лев Ильич не
только чувствовал себя евреем, но хорошо знал и любил еврейскую культуру).
По инвалидности Инжир был освобожден от общих
работ, а благодаря посылкам, которые приходили регулярно, он не голодал, как
другие. Несмотря на это, здоровье его шло на убыль. Посылки, видимо, были от
родственников, но многочисленные враги Льва Ильича подозревали, что на самом
деле — они от Третьего Отдела, часто поддерживавшего таким образом своих
сотрудников.
Летом 1950 года Инжира перевели в другой лагерь,
в 20-ти километрах от нашего. Там его вскоре назначили ответственным за
культурно-воспитательную работу среди заключенных. А это была весьма завидная
должность для арестанта. Работавшие в КВЧ (КВЧ — культурно-воспитательная
часть) обычно освобождались от общих работ; им выдавали одежду получше, жили
они в отдельных бараках — на 2-3 человека (в общих бараках ютились десятки, а
то и сотни «зеков»).
Работники КВЧ были лагерной аристократией. Одной
из их обязанностей было писать характеристики на других заключенных. На
основании таких характеристик разбирались жалобы самих заключенных, их
заявления и просьбы о свидании с родственниками, сокращении сроков и так далее.
(Между прочим, перспективная возможность сокращения срока была важнейшим
стимулом для контроля за работой и поведением заключенных: люди выбивались из
сил, чтобы выполнить нормы и заработать таким образом зачетные дни). Как
правило, на работу в КВЧ брали «бытовиков» и уголовников, так как
политзаключенных считали непригодными для «перевоспитания» других. Поэтому,
когда стало известно о назначении на эту должность Льва Ильича Инжира, для
многих это явилось подтверждением того, что он действительно состоит на службе
у Третьего Отдела.
Вскоре в тот же лагерь перевели и Георгия. Перед
отправкой Георгий поделился своими подозрениями: это могло быть следствием
доноса Инжира и переводят его в другой лагерь, чтобы там окончательно
расправиться с ним. Однако, несколько месяцев прошло без всяких последствий, и
до меня даже стали доходить слухи, что на новой должности Инжир, как может,
помогает политзаключенным и интеллигенции.
А потом, совершенно неожиданно, в тот же лагерь
перевели и меня.
Из опыта я знал, что подобные переводы практикуются
в период подготовки «материалов» для готовящегося внутрилагерного процесса. Я
решил быть исключительно осторожным, но вместе с тем и не избегать Инжира. Лев
Ильич приветствовал мое появление в лагере весьма дружественно. На новой
должности он показал, что был не только блестящим специалистом по финансам и
экономике, но прекрасно знал также русскую литературу и хорошо разбирался в
искусстве.
В нашей лагерной зоне было много
заключенных-евреев, и Лев Ильич не скрывал своей симпатии к ним. Он внимательно
расспрашивал их, особенно тех, кто бывал заграницей, и его очень огорчила роль,
которую сыграли коммунисты-евреи в «антинародных» демократиях в послевоенной
Восточной Европе. Он был убежден, что за эти преступления рано или поздно, но
дорого расплачиваться придется еврейскому населению этих стран. И больше того,
Лев Ильич был убежден в том, что коммунисты, которые сегодня используют в своих
целях евреев, завтра первыми же предадут и ликвидируют их: «мавр сделал свое
дело».
Органический антисоветизм, который Лев Ильич не
умел скрывать, а кроме того, его искренняя дружба с некоторыми евреями из той
части лагеря, где он находился, все больше ставили его в двусмысленное
положение по отношению к Третьему Отделу, на который он продолжал работать. В
апреле 1951 года меня перевели в другой лагерь, и о дальнейшей судьбе Льва
Ильича Инжира я знаю только понаслышке.
В это время в лагерях принимались крутые меры в
связи с подготовкой к третьей мировой войне. Руководство МГБ настаивало на
ликвидации опасных и нежелательных элементов; от Инжира требовали информации о
все большем и большем числе заключенных. В то же время и сам он стал объектом
новых преследований. Срок его истекал в 1953 году, но шансов на освобождение
было мало: он слишком много знал. Не исключено также, что он стал жертвой
межведомственной вражды между МВД и МГБ; каждое из этих министерств руководило
независимой сетью тайных агентов, было заинтересовано в слежке друг за другом и
старалось превзойти соперника по количеству арестов. Как бы то ни было, в
период новой волны внутрилагерных арестов, новых «следствий» и процессов,
сопровождавшихся широким строительством новых изоляторов, Лев Ильич был
арестован и дело его связали с делом «бывших троцкистов». Его обвиняли во
враждебности к советскому строю, в попытках создать подпольный троцкистский
пропагандистский центр и так далее... В лагере было арестовано около двенадцати
человек, но судили только троих. Кроме основных обвинений, двух участников
процесса обвиняли еще и в симпатиях к государству Израиль, а Льва Ильича — в
том, что он знал и скрыл это от Третьего Отдела. Следователи добивались
«признаний» того, что они пытались создать в лагере подпольную сионистскую
группу, но из этого ничего не вышло, так как Инжир наотрез отказался от всякого
сотрудничества с «органами» в этом вопросе, категорически заявив, что ничего об
этом не слышал и не знает. В конце концов, следователи отказались от
организации такого процесса, хотя в других лагерях их коллеги были намного
настойчивее.
Одним из излюбленных приемов следователей было
распространение слухов о смерти Бен-Гуриона для того, чтобы затем следить за
реакцией на это заключенных-евреев. К тем, кто обнаруживал малейшую тенденцию к
«еврейскому национализму», применялись соответствующие меры.
В тех случаях, когда единственной целью
«пересмотра» или создания новых дел являлось дальнейшее пребывание человека в
лагерях, физические методы воздействия обычно не применялись. Другое дело,
когда подозрения бывали «более серьезными». Например, если заключенный
подозревался в связях с внешним миром или в попытке распространять информацию о
положении в лагерях. Тогда не церемонились: иногда человека забивали чуть не
насмерть, помещали зимой в нетопленные карцеры и истязали разными другими
методами. Но условия подследственных даже без физических методов воздействия
тоже были пыткой, в особенности для людей, таких как Лев Ильич, с сильно
подорванным здоровьем.
Суд над ним происходил в Тайшете. Показания
против него давал, главным образом, заключенный К., из Киева, арестованный в 1943
году и осужденный на десять лет. Инжир не отрицал, что по некоторым вопросам
расходился с официальной советской точкой зрения.
Георгий, которого судили на том же процессе,
отчасти на основании показаний Льва Ильича, держался с достоинством, не нападая
на Льва Ильича. Зато Инжир рассказал о случае с «очной ставкой» в Тайшете в
1950 году и доказывал в связи с этим, что троцкисты ненавидят его и клевещут на
него. Суд отнесся к Инжиру особо сурово: ему дали 10 лет, тогда как Георгию —
всего 5. Приговор этот был для Льва Ильича тяжелым ударом. Он потерял всякую
надежду встретиться когда-нибудь с женой и детьми.
Заключенных, получавших новые сроки, как правило,
переводили в другие лагеря — видимо, во избежание распространения слухов о тех,
кто в этом лагере «помогал органам».
Позднее мне удалось выяснить, что Лев Ильич
скончался в Тайшетской лагерной больнице в 1954 году».
Лев Ильич
Инжир был реабилитирован в 1958
г. Только какой в посмертной реабилитации толк, хотелось
бы спросить?
Литература:
Бергер И. Крушение поколения: Воспоминания / пер. с англ. Я. Бергера. - Firenze: Aurora, 1973.
| Колонка Редактора | |
|
Скачать: Читать |
|
| Постоянные авторы | |